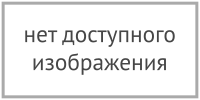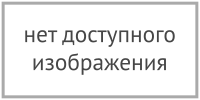Чтение христианина
Михаил Талалай
Афонские портреты
Алипий Капсальский
Ущелье Капсала — одно из самых живописных мест на Афоне. Расположенное поблизости от столицы Афона Кареи, оно, тем не менее, паломникам мало известно. Во-первых, капсальские келлии и каливы с афонских «трактов» не видны: ущелье их как бы проглотило. А во-вторых, по установленным правилам, паломники могут безпрепятственно посещать двадцать «господствующих» монастырей (и рассчитывать на их гостеприимство). Что же касается остального великого множества обителей, которые вне Афона считались бы монастырями, а здесь имеют названия скитов, келлий и калив, то в них попасть сложнее. Обычно туда идут по «рекомендации», с поклоном от имярек или с каким-то знатоком малых обителей.
«Рекомендацией» к отшельнику Алипию было письмо из Петербурга, переданное со мною одной благочестивой женщиной, переписывающейся с ним по-русски и пославшей ему, что меня сразу заинтересовало, медальоны с изображением благоверного князя Александра Невского. «Отец Алипий», — пояснила она — «ваятель, делает рельефные образки святых и очень любит русских угодников». Первый поход к монаху-ваятелю оказался безрезультатным: телефона у него нет (это не всегда так, у некоторых анахоретов есть телефоны), и договориться о встрече было невозможно. У порога его келлии какой-то другой неудачливый посетитель оставил пакет с запиской, но я не решился так поступить — скорее, не из-за боязни воров, а из желания повторить попытку знакомства.
И оно милостью Божией состоялось. Во второй поход, на мой традиционный призыв «евлогите» (то есть «благословите» — так на Святой Горе говорят при встрече с монахами) дверь распахнулась, и на порог вышел «патер Алипиос», улыбчивый и с сияющими, как у большинства афонцев, глазами. По-русски он понимал, но говорить не мог, впрочем, его словарного запаса, употребляемого в виде существительных без глаголов («церковь», «хлеб», «паломник») для нашего общения, пусть и не глубокого, хватало.
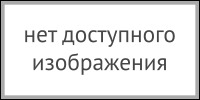 Отец Алипий действительно оказался схимником-ваятелем, живущим на выручку от своих изделий. Вся келлия была завешена результатами его трудов — рельефными образками всевозможных размеров, форм и сюжетов. Из дерева первоначально вырезается форма — я и застал его за этим занятием — которая заливается потом массой сложного состава, им самим изобретенного. Среди образов, действительно, встречалось много русских угодников — в первую очередь, св. Серафим Саровский и блаженная Ксения Петербургская. Отец Алипий действительно оказался схимником-ваятелем, живущим на выручку от своих изделий. Вся келлия была завешена результатами его трудов — рельефными образками всевозможных размеров, форм и сюжетов. Из дерева первоначально вырезается форма — я и застал его за этим занятием — которая заливается потом массой сложного состава, им самим изобретенного. Среди образов, действительно, встречалось много русских угодников — в первую очередь, св. Серафим Саровский и блаженная Ксения Петербургская.
Даже в иконостасе его домовой церкви, посвященной св. Николаю Чудотворцу, стояли рельефные иконы, что меня несколько изумило. Замечу, что в Греции отсутствуют многие наши обычаи, возведенные чуть ли не в ранг догмата — например, платочки на головах женщин, обязательное стояние во время всей службы, установка свечей исключительно правой рукой и прочее.
Выяснилась и другая деталь, меня поразившая. Одним из предшественников о. Алипия по его келлии был Никодим Святогорец, великий духоносный отец, писания которого на рубеже XVIII-XIX вв. вдохнули новые силы в православное монашество. Так, значит, именно здесь, в этих стенах, собиралось по крупицам «Добротолюбие», ставшее затем, благодаря другому многолетнему насельнику Афона, старцу Паисию Величковскому, настольной книгой благочестивых россиян.
Отец Алипий, показывая келлию, подвел меня к углу, где на столике находился череп. «Мой Старец», — по-русски сказал он, с любовью глядя на главу. Мы помолчали... На этом же столике стоял большой овальный рельеф со сложным сюжетом. Схимник дал пояснения, и пришлось удивляться еще раз. Рядом с черепом старца-наставника, оказывается, был помещен рельеф «Смерть Архимеда», со всеми известными подробностями: римский воин с поднятым мечом, старый ученый, заслоняющий начерченные на песке чертежи. Ведь мы в Элладе, а схимник-ваятель — эллин, впитавший с молоком матери свой эллинизм!
Архимед в Алипиевой келлии, в общем-то, был мне понятен, хотя трудно представить себе портрет, скажем, Ломоносова, в келлии нашего инока-соотечественника. Но национальной гордыни, которая иногда встречается у греков, и даже у монахов, у о. Алипия нет. А кроме того, он искренне любит русских. И язык наш учил у русских афонцев безкорыстно, без каких-либо практических целей. Сейчас он часто читает русскую духовную литературу, отчего в его словарь проникло немало архаизмов. Выйдя из келлии на тропинку, он вдруг сказал: «стезя».
Тропинка привела нас к скромному саду-огороду о. Алипия. Одно-единственное дерево, слива, было покрыто сетью. «Дрозды, воробьи, голуби», — пояснил схимник. Показав рукой на зачахший куст, сказал: «Помидор умер». И, довольный тем, что удалось образовать целое предложение со сказуемым, рассмеялся.
Пахомий Зилот
Отец Пахомий, выходец из СССР и давний афонец, не приписан ни к одному из двадцати «господствующих» монастырей, к которым принадлежат все жители Святой Горы, даже отшельники, официально «прикрепленные» к той или иной обители. Впрочем, афонская республика обладает самым широким плюрализмом и разнообразием ситуаций. «Диссидентствует» не только о. Пахомий, но и многие другие, живущие поодиночке или небольшими группами, «диссидентствует» целый монастырь — Эсфигмен — отколовшийся от братства агиоритов и живущий сам по себе, без правительственных дотаций, электричества, под тревожным транспарантом, вывешенным на стене обители: «Православие или смерть» (поплатились за подобное же «диссидентство» русские монахи-ильинцы, изгнанные со Святой Горы в 1992 году — но это другая история).
Таковых «диссидентов» на Афоне называют зилотами. Причиной их непримиримости, в основном, стал календарный вопрос. Когда все Православные Церкви (за исключением Русской и Сербской) перешли на новый стиль, празднуя, впрочем, Пасху по старому исчислению, святогорцы, за исключением ватопедцев, категорически отказались это сделать. И им Патриарх разрешил остаться «старостильниками», но часть радикально настроенных иноков не простила Патриарху его реформ, а также экуменизма.
Отец Пахомий прибыл на Афон в 1970-х годах; и, как человек религиозно горячий (мне кажется, во время никоновых реформ в России он стал бы одним из старообрядческих вождей), глубоко и болезненно пережил «календарный» раскол, приняв в итоге сторону зилотов. Покинув Пантелеимонов монастырь, куда он был направлен Московской Патриархией, ушел в зилотствующий Ильинский скит.
Я встретил его впервые в 1992 году, сразу после изгнания «иноков-ревнителей». Отец Пахомий был задумчив и подавлен. Отлучившись по делам из скита, он обнаружил по возвращении свой «дом» опечатанным, и лишился, таким образом, не только всех вещей, без которых инок в общем-то может обойтись, но и паспорта, нужного, как выяснилось, и монаху, ибо без удостоверения личности полиция с Афона выселяет. «Но меня с Афона выселят только мертвым», — заявил мне тогда о. Пахомий.
Встретил я его в Нагорном Руёссике, старинной русской обители, заселенной нашими монахами (после наипервейшего Ксилурга), до спуска вниз, к морю, к великому Пантелеимоновскому монастырю. Грустное зрелище имеет сейчас этот скит: его жизнь и постройки как будто бы обрублены. Подобно другим русским обителям, он в девятнадцатом веке набирал силу, в двадцатом же веке всю поиссякшую. Лет сто тому назад здесь началась постройка грандиозного собора. В России разразилась революция, шла гражданская война, а на Афоне собор потихоньку достраивали. Когда строительство закончили (может, это единственный русский храм, начатый до революции, а законченный после нее), оказался храм никому не нужным. И служат в нем теперь раз в год, на престольный праздник, в день св. Пантелеимона.
В скитских же корпусах, по разным их углам, живут теперь два пожилых русских монаха, принадлежащих разным юрисдикциям. Отец Иона, живущий в восточном корпусе, ходит причащаться в свой Пантелеимонов монастырь, а о. Пахомий, живущий в западном — в Эсфигменский.
Когда я посетил о. Пахомия в следующий раз, спустя пять лет, он выглядел более спокойным. Паспорт ему вернули. К странному положению зилота, живущего при незилотской обители, все привыкли.
Беседа наша, как и с большинством «ревнителей», была тревожна и сумбурна, ибо по своему миросозерцанию они — апокалиптики, истово готовящиеся ко Второму Пришествию Христову и усматривающие в хаосе нашего мира знаки последних времен. Разговоры о делах, работе, профессиях их собеседников, зилотов не занимают — «спасаться надо». Что весьма правильно, как же не желать спасения души? И может, прав о. Пахомий, и следует бросить все, переводы, писание статей, включая и эту, и посвятить остаток жизни земной подготовке к жизни вечной?
Антихрист, бесы, звериное число, жидо-масонский заговор, объединенная Европа — эти тяжелые темы чуть облегчались светлым афонским закатом, вкуснейшими помидорами и огурцами, взращенными о. Пахомием. За время зилотства в пустом Руссике он стал замечательным огородником и даже снабжает овощами своего единственного соседа о. Иону. Но к одной евхаристической Чаше они не подходят. Действительно можно поверить в «последние времена».
Филимон Ильинский
Вот странно — как ни приду в Ильинский скит, где некогда обитало свыше трехсот русских насельников, меня там встречает один-единственный житель, всегда добродушный, веселый отец Филимон. Общаемся мы с ним по-английски, так как о. Филимон — солунянин, и, как образованный горожанин, знает языки, а греческим я, увы, не владею. Вообще-то поход в Ильинский скит ставит перед русским паломником некую моральную проблему. Дело в том, что эта великолепная, по афонским меркам — грандиозная русская обитель, в 1992 году, при весьма неприятных, даже скандальных (хоть это слово ну совсем не идет к Афону) обстоятельствах перешла в греческие руки. В православной среде сие прискорбное событие получило немалый резонанс.
Вкратце: Ильинский скит основан в 1757 году знаменитым старцем Паисием Величковским, рос и процветал, устраивал подворья в России и в Турции, выпускал популярные у нашего народа «Афоно-Ильинские листки», отстраивался, заимев в начале века огромный, на Афоне второй по величине, после Андреевского, собор. Когда связь с Родиной оборвалась, в скиту мало-помалу сформировалась русская община из эмигрантов, считавших себя под омофором Русской Зарубежной Церкви, неприязненно относившаяся к монашествующим выходцам из СССР, живших в Пантелеимоновском монастыре (и на Афоне, в этом святом уголке, действует и, быть может, с боёльшим азартом, враг рода человеческого, разделяя даже русских иноков).
Настоятельствовал в скиту архимандрит Серафим, по происхождению гуцул (русиён), по паспорту — гражданин США. Поэтому его, да и других насельников — к началу 1990-х годов их стало всего шесть — иногда называли американцами, а сами они себя именовали зилотами, то есть «ревнителями». В зилотское кредо, в первую очередь, входило (и входит) непоминание Константинопольского патриарха. Однако предстоятель Вселенской Церкви, как известно, — также и духовная глава Святой Горы, и отказ зилотов считать его таковым и послужил формальной причиной их изгнания. В мае 1992 года о. Серафим исповедал свое зилотство перед патриаршей комиссией, прибывшей на Афон, и в ответ получил 24 часа на сборы...
В первый раз я подошел к святым вратам Ильинского скита в июне 1992 года, не зная о только что случившемся инциденте. Полицейский, несущий службу на Афоне, преградил мне дорогу, заявив, что скит паломников не принимает и никаких русских монахов здесь нет. Других разъяснений он не дал. Получил я их позднее, от разных афонцев, и с разными красочными подробностями.

Затем о. Филимон повел меня по обители. Она выглядела образцово: все вычищено, подновлено, подкрашено. И — эллинизировано: на стенах появились новые надписи и сюжеты. Не так — внутри собора, где золотом блестит русский иконостас. По просьбе о. Филимона я перевел ему некоторые надписи на церковнославянском, непонятные нынешним насельникам скита.
Прошло два года, и я вновь посетил Ильинскую обитель. Отец Филимон встретил меня уже как доброго знакомого, посетовал, что и в этот раз скитоначальника нет на месте, и посему мне опять не удастся посмотреть библиотеку и другие «интерьеры». Мы немножко посудачили о слишком активном настоятеле скита, о котором было известно, что прежде он служил полковым священником, капелланом. «Ну вот, — смеялся о. Филимон, — сделает о. Иоаким что-нибудь дурное, говорят: “Он был капелланом”, сделает что-нибудь хорошее — говорят то же самое».
Замечу, что из всех знакомых мне святогорцев, о. Филимон — самый веселый. Глядя в его открытое, дружелюбное лицо я размышлял о тех русских паломниках, которые не ходят в Ильинский, считая, что он занят «захватчиками», и о самих «захватчиках», никогда и не подозревавших, что им придется жить в бывшей русской обители, среди воспоминаний о Паисии Величковском.
Невозможно, впрочем, тут не скорбеть о том, что русская традиция, русская жизнь здесь так решительно оборвана. Да, о. Филимон — хороший монах, а изгнанный полицией архимандрит Серафим, может быть, был менее хорош, — не мне судить. Но что думает на Небесах обо всем этом сам основатель скита, святой Паисий? Ведь для новых обитателей его скита он и святым-то не является! С сокрушением пояснил мне о. Филимон (улыбка на редкую минуту исчезла с его лица), имени страца нет в греческих святцах, не существует и греческой службы святому. И лишь как воспоминание о былом почитании осталась на аналое в храме лежать русская икона с ликом Старца в нимбе.
Виталий Пантелеимоновский
Русский Афон ассоциируется прежде всего с Пантелеимоновым монастырем. Воистину это — цитадель русского монашества на Востоке, даже своими куполами и красками так отличающаяся от соседних греческих обителей (греки-паломники прозвали наш монастырь «зеленым» — по непривычному цвету кровли).
Каждый раз сердце сжимается при виде его построек — это больше, чем встреча с Россией, это встреча со Святой Русью.
Теперь же, после частых паломничеств на Афон и дружбы с одним пантелеимоновцем, я высматриваю и знакомые уголки обители, в том числе и балкон отца Виталия со скамьей, где не раз мы сиживали вдвоем за чаем и за созерцанием афонского заката.
Писать вкратце о давнем знакомстве непросто, намного легче рассказать о какой-либо афонской единичной встрече. Как передать в сжатой форме многочасовые беседы, прогулки по святогорским тропам, служение вдвоем в маленькой домовой церквушке на верхней келлии, вечера на утесе, который я прозвал «камнем отца Виталия», ибо на его вершине как будто бы образовалось особое ложе, выдавленное могучими формами инока.
Иеромонах Виталий, в самом деле, выглядит, как Илья Муромец, когда тот принял, по преданию, постриг в Киево-Печерской Лавре. За более чем два десятка лет на Афоне, он, правда, чуть «огречился», приобретя вечный эгейский загар. На традиционного русака он теперь не похож, что и соответствует его национальному самоопределению: «я — не русский и не грек, я — афонец».
Родом с Дальнего Востока, о. Виталий уверовал в Бога, проходя срочную службу в Советской Армии, и там же принял решение стать монахом («Не хотел демобилизовываться», — шутит он). Это произошло не сразу, некоторое время Валентин (таково было его имя до пострига) работал в конструкторском бюро, готовясь к уходу из мира. На Афон он прибыл в начале 1970-х годов, когда Московской Патриархии удалось, после долгих переговоров с греческими властями и Константинопольским Патриархом, послать в увядавший Пантелеимонов монастырь горстку русских монахов. По статуту Святой Горы ее насельниками могут быть только граждане Греции (сейчас с этим не так строго) — и сибиряк стал эллином. Это, впрочем, никаких привилегий ему не дало: лишь раз ему пригодился греческий паспорт, когда игумен благословил поклониться Гробу Господню в Иерусалиме, и он отправился в Израиль без виз.
В отличие от многих других афонцев-россиян, о. Виталий овладел бытовым греческим языком — по крайней мере, чтобы общаться со своими соседями. Это обогатило его жизнь: не секрет, что иные русские насельники замыкаются в своей «русскости», тем самым лишая себя многих духовных богатств Святой Горы.
 По своему мироощущению он принадлежит к числу жизнелюбцев. Разным может быть монашеский путь и, соответственно, облик. Мысли о геенне огненной, о трудности спасения, наверное, присущи и о. Виталию, но преобладает в его высказываниях горячая благодарность Богу за жизнь, за Афон, за великолепие закатов над Эгейским морем, за буйную средиземноморскую природу. По своему мироощущению он принадлежит к числу жизнелюбцев. Разным может быть монашеский путь и, соответственно, облик. Мысли о геенне огненной, о трудности спасения, наверное, присущи и о. Виталию, но преобладает в его высказываниях горячая благодарность Богу за жизнь, за Афон, за великолепие закатов над Эгейским морем, за буйную средиземноморскую природу.
Отец Виталий общителен и открыт, с ним легко можно обсудить и богословскую, и бытовую тему. Вот почему на балкончике его келлии люблю сидеть не только я один. Кроме того, он — живая энциклопедия «русского Афона», везде бывал, со всеми знаком, и может удовлетворить любопытство по самым разнообразным вопросам. И ему интересны гости балкончика: о. Виталий со вкусом и обстоятельно расспросит и о вашем житье-бытье.
Есть у него хобби, хотя это слово с трудом пишется в очерке о монахе. Он давно увлекается фотографией, являясь единственным русским монахом-фотографом (у греков есть несколько, уже выпустивших свои альбомы). Ему, естественно, удается делать снимки, нам, паломникам, недоступные: монахи вообще не любят сниматься, и большинство отказываются наотрез. Рассматривание его работ и слушание комментариев — одно из главных удовольствий нашего с ним общения. Профессиональный уровень о. Виталия растет, но пристрастия, как и полагается, остаются теми же: это афонская натура, море, цветы, блики солнца на куполах.
Совсем по-другому он представляется, когда служит в церкви, особенно в праздничных, белых одеяниях. По-византийски торжественный, он решительно выносит Чашу «народу», который обычно состоит из трех десятков иноков и нескольких паломников, а иногда, если служба идет на верхней димитровской келлии, — из меня одного.
Естественно, много расспрашиваю его о трудной жизни монастыря, который по сути дела — великая лавра, сродни другим четырем российским лаврам. Грандиозная обитель, целый город, население которого достигало трех тысяч (две тысячи монахов и с тысячу пилигримов), в двадцатом веке пережила драматический упадок, как и другие русские обители на Афоне. Причины тому известны: атеистический режим на Родине и националистический — в Греции. Отцу Виталию знакомы все нюансы русско-греческих отношений на Святой Горе, которая, увы, не свободна от соблазнов и искушений.
Несмотря на свою общительность, о. Виталий несколько тяготится жизнью в большом монастыре. Его тянет к природе, в лес, где стоит его любимая келлия св. Димитрия Солунского. Келлия эта оставлена монахами, но о. Виталию удалось получить благословение игумена на «раздвоение» своей жизни: половина — в лесу, половина — в монастыре. Именно там, в лесу, он и облюбовал скалу, с которой так сладостно обозревать море, берега, закаты — вид намного представительней, чем с балкона монастыря, где дальше природа и ближе «начальство».
...В один из моих последних приездов балкончик о. Виталия оказался для меня недоступным — и теперь, похоже, навсегда. Афонец вернулся на Родину. Не сам, конечно, а по благословению игумена монастыря и по ходатайству одного сибирского митрополита, некогда постригавшего сотрудника конструкторского бюро Валентина. Владыка решил возродить одну заброшенную обитель в Удмуртии и, более того, напитать ее афонским духом. Нынче о. Виталий — сам игумен.
Герасим Кутлумушский
Отец Герасим обитает минутах в двадцати от столичной Кареи, неподалеку от оживленного «большака», ведущего в Иверский монастырь. «Большак» есть «большак», и о. Герасим доволен, что его жилище с дороги не видно, тропка к нему малосимпатична, а, значит, и меньше случайных визитеров. Будучи почти столичным жителем, он, однако, умудрился уединиться, и я не сразу обнаружил его келлию, несмотря на им собственноручно поставленный крестик на моей, самой лучшей в мире, «австрийской», карте Афона.
Инок отшельничает, но, похоже, делает это не вполне добровольно, ибо крайне охоч до беседы, в которой проявляет крайнюю широту интересов и особенную любовь к истории, преимущественно — к западному средневековью. Его занимают таинственные еретические движения катаров, несчастные тамплиеры, а в глобальном, мировом историческом процессе — судьбы царств. При каждой нашей встрече первое, о чем он заговаривает со мной — это какая-нибудь отвлеченная историческая тема, например, Лжедмитрий, которая, тем не менее, ловко включается им в общую систему.
Постриженник греческого Кутлумушского монастыря, он в монастыре, тем не менее, не жил, ушел сначала в небольшую келлию, где жило несколько старцев, а затем, получив в свое распоряжение полуразвалившуюся хибару, которые на Афоне называют каливами и — маленькое чудо! — разрешение устроить в ней церковь (тем самым калива выводится на более высокую ступень келлии), да и к тому же посвятить ее не кому-нибудь иному, как преподобному Серафиму Саровскому! Отец Герасим сообщает, что таковое посвящение уже принято в Протате, и что это будет первый афонский храм в честь Саровского Чудотворца. Покамест же на месте будущей церкви стоят три стены без крыши...
Типичный русак, светловолосый, с голубыми глазами в глубоких глазницах, подвижный, хлопотливый, гостеприимный, о. Герасим обрушивает на своих гостей весь свод накопленных и пережитых им сведений. Меня же занимал его путь на Афон, оказавшийся весьма экстравагантным. Фабричным пареньком он скопил немного денег, которые решил потратить на путешествие в Америку. Приехав из своей глубинки в Москву, будущий святогорец узнал, что на Америку денег не хватает, а вот на двухнедельный тур в Грецию — пожалуйста. Тур оказался групповой поездкой «челноков», от которых он отделился ради культурных маршрутов, в частности, похода на Олимп, где и услышал о существовании Афона, о котором прежде и не знал.
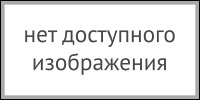 Афон потряс, заворожил, и так, вместо суперсовременных Штатов, он попал, и основательно, в средневековое государство Агион Орос. Последней составляющей его траектории стало падение на автомашине с афонской кручи. Он пролетел вниз метров пятнадцать, а очнувшись, увидел над собой медсестер. «Это не Афон», — было первое, что пришло в голову. В самом деле он лежал в больнице в Салониках. Поправившись, турист тут же вернулся на Святую Гору. В машине он падал вместе с кутлумушскими монахами — все остались живы — и посему постриг был принят в Кутлумуше. Афон потряс, заворожил, и так, вместо суперсовременных Штатов, он попал, и основательно, в средневековое государство Агион Орос. Последней составляющей его траектории стало падение на автомашине с афонской кручи. Он пролетел вниз метров пятнадцать, а очнувшись, увидел над собой медсестер. «Это не Афон», — было первое, что пришло в голову. В самом деле он лежал в больнице в Салониках. Поправившись, турист тут же вернулся на Святую Гору. В машине он падал вместе с кутлумушскими монахами — все остались живы — и посему постриг был принят в Кутлумуше.
Его живой и бойкий ум быстро усвоил афонскую религиозность и эллинизм. «Культурное гетто», куда попали иные русские афонцы, по разным причинам не овладевшие греческим языком, для о. Герасима не существует. Горячо полюбив и Афон и Грецию, он не перестал при этом быть русским патриотом, проявляя свой патриотизм на любом уровне, в том числе и бытовом, доказывая преимущества российских открывашек, ножей, рыбных консервов.
Общительный характер (не перестаю удивляться, почему он стал анахоретом) позволил о. Герасиму свести короткое знакомство со многими насельниками карейских обителей. Пожалуй, для русских паломников он был бы очень полезен именно как знаток Кареи и окрестности, куда, заметим, входит и его родной Кутлумуш. Но как его найти? Ведь келлия св. Серафима Саровского отмечена пока только на моей карте.
Прошло несколько лет. Я снова на Афоне. В первый же день моего пребывания на Афоне на пристани Пантелеимонова монастыря я вновь встретил о. Герасима. Он сошел, точнее, сбежал с парома, неся связку длинных металлических труб. Инок все так же подвижен, энергичен, словоохотлив и едва мы обнялись, принялся рассказывать о приключениях, только что пережитых им при транспортировке груза, который вез он из Салоник для своей строящейся келлии. «Как стройка?» — полюбопытствовал я. «Заходи, заходи, посмотришь...» — уклончиво ответил о. Герасим.
Иду знакомой Иверской дорогой, нахожу знакомый поворот влево. Спустя какое-то время дорога делает резкой вираж с крутым подъемом вверх и... Не верю своим глазам — туда ли я попал? Перед глазами, вместо полуразвалившейся избушки, в которой два года назад и гостя-то посадить было негде, открылась новая, грандиозная постройка: уже сформировавшаяся в своих главных чертах красивая келлия под яркой, новенькой черепичной крышей. И даже купол церкви, правда, пока без креста, возвышается в ее левом крыле.
Уже потом, любуясь панорамой Капсальской долины с высоты афонского хребта, я отыскал глазами теперь уже знакомые очертания келлии св. Серафима Саровского и отметил, как великолепно она, со своим нарядным силуэтом, поставлена в пространстве. В очень точное место упала машина с русским туристом, будущим святогорцем Герасимом.
|