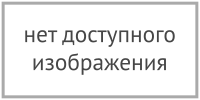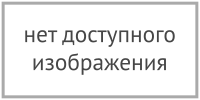|
* * *
Батюшке
У Господа все возможно.
Вмерзли реки в свои берега,
Только я, как кинжал без ножен,
Вынутый на врага.
Путь мой, словно погост, безлюден,
В колесе надломилась ось,
Сколько раз поцелуй Иудин
Прожигал мне кожу насквозь!
Ложь смотрела глазами лисьими,
И сужался, сужался круг,
Но, казалось, что близко-близко
Мой единственный преданный Друг.
………………………………………..
Нет друзей. И врагов больше нету.
Снова ветер вселенский задул,
Снова слышится звон монеток
В Гефсиманском стылом саду...
Печоры, 1996 г.
* * *
моему духовному Отцу
А я!.. Я брал опавший желудь,
Владея жемчугом — тряс дуб,
Сто раз на «молоке» ожегся,
Но все же на воду не дул,
Шел напролом через терновник,
Следы кровавя для зверья,
Чумных пиров хмельной виновник,
Скажи мне, Господи, кто я!
Я разменял талант безценный,
Все оставляя на «потом»,
Был королем на чьих-то сценах
И в жизни собственной шутом,
Я думал, что еще не время,
Но срок пришел, восстав от грез,
И мной оставленное бремя
Ты молча взял и кротко нес.
Псков, 8.02.95
* * *
Короче дни, и встречи, и слова,
И горизонта бледная полоска,
И свечи в храмах больше не из воска,
И легче перышка людей молва ...
Хабаровск, июнь 1990 г.
Ворон
Был ворон мудрым, на его крыле
Белела метка крепкого капкана.
Жил триста лет — и стала смерть желанна,
Но смерть не шла — дел много на земле!
Сам полечу! — решил и сделал так.
Смерть находилась за занятьем важным:
Учила воробьишку быть отважным —
К земле прижмет — и отойдет на шаг.
Он вырывался и летел, летел,
И падал камнем, и взлететь пытался!..
И вдруг пятном кровавым распластался
И клюв раскрыл, как будто пить хотел.
И ворон понял: воробья убьют,
И в оправданье он не пикнет даже,
Не каждый, кто крылат — в душе отважен,
И он крыло подставил воробью.
Они взлетели выше облаков,
Куда при жизни птицы не летают,
Но все однажды Небо обретают,
Освободившись от земных оков.
Свет неземной полнеба охватил.
И засияли, словно солнце в росах,
И воробей с душою райских птиц
И черный ворон с сердцем альбатроса!
Псков, октябрь 1995 г.
* * *
Переплелись печали и почины,
Не отличить торжеств от похорон,
Чин — чином все. Клин вышибали клином,
Взорвали храмы, да остался звон.
И все бы — ничего, да ворон кружит,
Да часовой измучен на часах,
Да «светлый путь» тропы таежной уже,
Да Ярославны плач звенит в ушах.
Хабаровск, 1989 г.
* * *
Везде весна, а тут опять метель,
Везде черемух буйное кипенье
И пенье птиц. Какое же терпенье
У этих почек и у этих трав!
Ни почестей, ни милостей, ни прав —
Безропотно Господне принимают, —
Весна ведь! — Головы не поднимают:
Так Бог судил, и стало быть, Он прав.
Сахалин, май 1991 г.
* * *
Не страшно то, что рдеют небеса,
Что пробил час и близится расплата.
В загоне сердце, хоть ума — палата,
А на снегу все мнится красная роса,
И духу в теле как-то тесновато...
И снова ветры затхлые задули,
Певцы уснули, палачи в загуле,
К земле приложишь ухо — в страшном гуле
Все детские стенают голоса!
Как душно, Господи! По всей Руси,
Со всех концов протянутые руки,
И пьяные по площадям старухи,
И девочки продажные в такси,
И на могилах старых свежие цветы —
То будущего страшные черты...
Петербург, октябрь 1992 г.
* * *
И не печалюсь, знаю — все пройдет,
Еще немного — и остынут реки,
И упадут с орешника орехи,
И Аннушка их в горстку соберет,
И поднесет, и тихо скажет: «На!»
Взгляну в ладонь ей и оторопею,
Как линия судьбы искажена!
Но ничего исправить не успею.
Жизнь не одна? Но я в ней не вольна,
Я — рыба, и моя судьба — волна,
А берег мой то круче, то положе.
И если есть на это воля Божья,
То будет дочь моя сохранена.
Я ж быть согласна тем, на что пригожа:
Той лошадью, которую треножат,
Единственной сосною придорожной,
Которой сердцевину гвоздь тревожит —
Едино мне, что солнце, что луна,
Что утро раннее, что поздний вечер,
Но только бы не волей человечьей,
А Божьей жизнь была освящена!
Воронеж, октябрь 1991 г.
Сон
Декабрьские костры метель гасила.
Я нес себя сумой земных скорбей.
Какой-то странною, нездешней силой
В ладони мне был брошен воробей.
Ошеломленный, жалкий и нелепый,
Я силился не выпустить из рук
Тот страшный знак, и черствой коркой хлеба
Мне в горле стал любимый Петербург.
Открылся вдруг неведомый мне ракурс —
Ночное предсказание души,
Мой мозг кричал, но внутренний оракул
Вознес ладонь, и этот голос рока
Никто уже не смог бы заглушить.
Я поднял воротник, а кроха-птица
На мостовую замертво легла,
И в сердце раскаленной белой спицей
Вошла адмиралтейская игла.
Я, слеп от боли, шел без направленья,
И день, и год, не поднимая век...
Меня окликнули в глухом селеньи —
Стенал в агонии бездарный, жуткий век.
Сахалин, май 1991 г
|
|