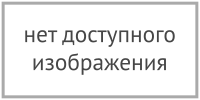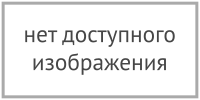Православное царство
В. Василик
Философия и богословие власти
в трагедии «Борис Годунов»
Часть 2
Самозванец — одно из самых сложных явлений в трагедии, не исчерпывается характеристикой «нелегитимный макиавеллист», хотя во многом и соответствует ей. Некоторые исследователи считают Самозванца характером, сходным с Генрихом IV, поэтому, творящим свою судьбу и новую реальность, совершающим чудо «воскресения» царевича. Все это верно, но лишь отчасти. В некоторых работах ставится вопрос о соотношении Борис Годунов — Александр I, однако, насколько мне известно, никто не исследовал оппозицию «Отрепьев-декабристы», вероятно, в силу неудобства ассоциировать последних с Самозванцем. Между тем Самозванец предстает как человек «декабристского типа» — отважный, умный, ловкий, любящий риск, авантюрист:
|
«Да слышно, он умен, приветлив, ловок…»
«…и вор,
А молодец».
|
|
|
|
Сам Самозванец характеризует себя так:
|
«Я, кажется, рожден небоязливым;
Перед собой вблизи видал я смерть,
Пред смертию душа не содрогалась,
За мной гнались, я духом не смутился
И дерзостью неволей избежал».
|
|
|
|
Отношения Самозванца с Мариной также напоминают поведение людей декабристского круга, не случайно он, забывшись, в досаде называет ее «любовницей»:
|
«Я не хочу делиться с мертвецом
Любовницей, ему принадлежащей».
|
|
|
|
Размер (шестистопный усеченный ямб) позволяет вставить другое слово — «возлюбленной», но значимо то, что Пушкин выбирает «любовница».
Любовь Самозванца к поэзии опять-таки связывает его с декабристами: «Стократ священ союз меча и лиры».
Однако подобные характеристики недостаточны. В каком-то смысле проблема Самозванца — это вопрос об антихристе. Действительно, если царевич Димитрий принят «в лик ангелов небесных» и стал «великим чудотворцем», и как мученик Христов он является богоносцем и христоносцем, то кем становится человек, принявший на себя имя и облик святого? В ряде мест трагедии Самозванец характеризуется как слуга дьявола, или бесовский фантом. Вот что о нем говорит Афанасий Пушкин:
|
«…спасенный ли царевич,
Иль некий дух во образе его,
Иль смелый плут, безстыдный самозванец».
|
|
|
|
Согласно Преданию Церкви, души умерших сами по себе не могут являться живым, чаще всего их явления связаны с бесовскими мечтаниями. Соположение «дух» и «безстыдный Самозванец» не оставляют сомнения в том, какой это дух.
Говоря о Грозном, мы уже упоминали о сентенции Самозванца: «Тень Грозного меня усыновила». Самозванца усыновляет тот царь, кого не стоит помянуть к ночи, кто возмущает народы. Остановимся на стихе: «и в жертву мне Бориса обрекла». Если вдуматься в первоначальный, буквальный смысл, то Самозванец воспринимается либо как языческий кумир, либо как демон, которому приносят человеческие жертвы. Вспомним слова сто пятого псалма: «Служили истуканам их, которые были для них сетью. Приносили сыновей своих и дочерей своих в жертву бесам» (Пс. 105, 36–37). Наконец, Патриарх, выразитель церковной правды и праведности, называет Отрепьева «бесовским сыном, расстригой окаянным». Для него «обман безбожного злодея» непосредственно связан с «мощью бесов».
Парадокс состоит в том, что Пушкин не демонизирует характер Отрепьева, напротив, он наделяет его многими привлекательными чертами, рассмотренными выше, но факт остается фактом: если царь, помазанник Божий, несет в себе образ Христа, то Самозванец исполняет страшную роль лжецаря-антихриста. В том и состоит гениальность Пушкина, что он рассматривает исторические характеры в их сложности, в их взаимодействии с окружающим миром, а также — в их роли, назначении и целеполагании.
В процессе работы над трагедией Пушкин изменил мотивацию самозванства Отрепьева. В первоначальной редакции, в которой отразилось влияние Карамзина и летописных известий, Отрепьев решает стать Самозванцем под влиянием злого чернеца, «старца Леонида». Это имя не случайно: инок Крыпецкого монастыря, бродяга Леонид согласился помогать Самозванцу и назвался именем Григория Отрепьева. Изначальная трактовка искушения Отрепьева сугубо романтическая, сам злой чернец оказывается неожиданно исчезающим демонским призраком, от которого стынет кровь в жилах:
|
«Где же он, где старец Леонид?
Я здесь один, и все молчит,
Холодный дух в лицо мне дует,
И ходит холод по главе…»
|
|
|
|
В разговоре со злым чернецом основным мотивом решения Григория становится разочарование в монашеской жизни, тоска и скука, «черные грезы», мутящие душу, и желание хоть какого-то выхода:
|
«Нет, не вытерплю! Нет мочи! Чрез ограду, да бегом.
Мир велик, мне путь-дорога на четыре стороны…
Хоть бы хан опять нагрянул! Хоть Литва бы поднялась!
Так и быть! Пошел бы с ними переведаться мечом.
Что, когда бы наш царевич из могилы вдруг воскрес…»
|
|
|
|
Внушения злого чернеца падают на готовую почву, тем не менее Григорий в сцене «Монастырская ограда» предстает адептом чужого замысла.
В более поздней редакции сцена «Монастырская ограда» была исключена.
Единственная сцена, по которой отчасти можно судить о мотивах решения Григория — «Келья в Чудовом монастыре». Судя по ней, замысел Отрепьева вызревает самостоятельно, хотя и под влиянием страшного рассказа Пимена о гибели царевича — ключевыми становятся слова:
|
«Он был бы твой ровесник
царствовал, но Бог судил иное».
|
|
|
|
Имя летописца Пимена является значимым: так звали монаха, который перевел Отрепьева через литовскую границу, а позднее обличал его как Самозванца. Исследователи обращали внимание на второе обстоятельство, но почти не рассматривали первое. Между тем, в контексте трагедии роль Пимена как «проводника» Отрепьева очевидна: во-первых, он — «вождь», водитель инока Григория в духовном мире и в истории России, во-вторых, он невольно приводит Отрепьева к его дерзновенному замыслу через рассказ о гибели царевича. Сам того не желая, он предлагает молодому иноку тончайшее искушение правдой, справедливостью. Рассказ Пимена, с одной стороны, рождает в Отрепьеве благородное негодование против цареубийцы (см. заключительный монолог сцены «И не уйдешь ты от суда мирского…), с другой — невольно провоцирует его на самозванство. Конечно, очевидно, что Отрепьев пропускает всю информацию через себя и смотрит на рассказ Пимена своими глазами; его взгляд далек от трезвой смиренной рассудительности старца, от его подлинно христианского, молитвенного отношения к жизни и истории. Показательными является самохарактеристика Пимена и его характеристика Отрепьевым. Летописец говорит о себе:
|
«Исполнен долг, завещанный от Бога
Мне грешному. Недаром многих лет
Свидетелем Господь меня поставил
И книжному искусству вразумил…»
|
|
|
|
Пимен называет себя свидетелем. Это слово — не просто судебный термин, в нем присутствует сакральный смысл. В свидетельстве сокрыто апостольство: перед Вознесением Христос говорит ученикам: «И вы будете мне свидетелями в Иерусалиме и даже до пределов земли» (Деян. 1, 8). Как известно, в греческом языке слово «свидетель» употребляется для обозначения понятия «мученик», и понимание мученичества как свидетельства глубоко укоренено в церковном Предании: в частности, на паримийном чтении из пророчества Исаии, читаемой в память мучеников, мы слышим: «А Мои свидетели, говорит Господь, вы и раб Мой, которого Я избрал, чтобы вы знали и верили Мне, и разумели, что это Я: прежде Меня не было Бога и после Меня не будет. Я, Я Господь, и нет Спасителя кроме Меня» (Ис. 43, 10). А вот как в конце сцены характеризует деятельность Пимена Отрепьев:
|
«А между тем отшельник в темной келье
Здесь на тебя донос ужасный пишет…».
|
|
|
|
Донос всегда, а в особенности — в пушкинские времена — ассоциировался с подлостью. Это понятие включено в семантический ряд интриги, коварства, предательства, а в условиях Московской Руси — пытки и казни. Немного упрощая, можно сказать, что если Пимен смотрит на историю, а значит, и на власть с библейской точки зрения, то Отрепьев — глазами политического психолога, и в этом восприятии выражена его воля к политической борьбе, воля к власти.
Механизм решения Отрепьева стать Самозванцем можно описать, как прелесть, или тонкое мечтание. Ключевым для понимания этого мечтания является сон Григория:
|
«А мой покой бесовское мечтанье
Тревожило, и враг меня мутил.
Мне снилося, что лестница крутая
Меня вела на башню; с высоты
Мне виделась Москва, что муравейник;
Внизу народ на площади кипел
И на меня указывал со смехом,
И стыдно мне, и страшно становилось,
И, падая стремглав, я пробуждался.
|
|
|
|
Первый слой прочтения этого сна — точное предсказание кончины Отрепьева: «Димитрий решился выскочить в окно, чтобы спуститься по лесам… Димитрий споткнулся и упал на землю с высоты 30 футов. Он разбил себе грудь, вывихнул ногу, зашиб голову и на время лишился чувств». Затем его захватили заговорщики и убили.
Есть, однако, и второй план — падение, полет связаны с грехом, грехопадением, влиянием дьявольских сил. Интересна та интерпретация, которую получила смерть Отрепьева (точнее — его падение) в народном предании:
|
«Заглянул в окошко осевчато:
Обступила сила кругом вокруг,
Вся сила с копьями,
Гришка рострижка, Отрепьев сын
Думает умом своим царским:
“Поделаю крылица дьявольски,
Улечу нун я дьяволом”.
Не успел Грешка сделать крыльицов,
Так скололи Гришку Отрепьева».
|
|
|
|
Пушкин мог знать это предание, которое имеет явные параллели в сне Отрепьева — толпа народа, окружающая башню, полет и падение. Помимо падения во сне Отрепьева, есть несколько черт, указывающих на «бесовское мечтанье». Прежде всего это — сравнение Москвы с муравейником, отсюда протягивается нить к словам Раскольникова в «Преступлении и наказании»: «Свобода и власть, главное — власть над человеческим муравейником». Муравейник — символ «двуногих тварей миллионов», служащих «орудием» сверхчеловеку наполеоновского типа. Затем — смех народа, «кипящего» под башней. В рамках древнерусского сознания смех ощущался как демоническая стихия, не случайно в стихире вечерни Великой Пятницы ад называется «всесмехливым».
Исследователи уже обращали внимание на любовь Самозванца к поэзии, а также — на первоначальный вариант сцены «Краков. Дом Вишневецкого»:
|
Хрущов (тихо Пушкину):
Кто сей?
Пушкин:
Пиит.
Хрущов:
Какое ж это званье?
Пушкин:
Как бы сказать? по-русски виршеписец
Иль скоморох.
Самозванец:
Прекрасные стихи.
Я верую в пророчества пиитов».
|
|
|
|
Таким образом выстраивается ассоциативный ряд: Самозванец-поэт, поэт-скоморох, всенародный смех над шутом и «пророчества пиитов» странно смыкаются с пророческим сном.
Наконец, в пророческом сне присутствует важная деталь — башня, символизирую-щая возвышение и указывающая на подсознательное стремление Отрепьева к верховной власти, которое выражено в его словах к Пимену:
|
«Зачем и мне не тешиться в боях,
Не пировать за царскою трапезой?»
|
|
|
|
После сна Отрепьева возникает законный вопрос: какое место собирается занять Григорий за царской трапезой и на пире жизни? И здесь опять-таки подсознательно проявляется его отношение к власти: как и для Годунова она — источник наслаждения, а не крест, не долг. Сам Отрепьев понимает греховность подобной установки, но, как и царь Борис, откладывает спасение на конец жизни:
|
«Успел бы я, как ты, на старость лет
От суеты, от мира отложиться».
|
|
|
|
Пимен, понимая его состояние, указывает ему на тленность и конечность земного наслаждения, оборачивающегося искушением и горечью и на безконечное блаженство, заключенное в святости:
|
«Не сетуй брат, что рано грешный свет
Покинул ты, что мало искушений
Послал тебе Всевышний. Верь ты мне:
Нас издали пленяет слава, роскошь
И женская лукавая любовь.
Я долго жил и многим насладился,
Но с той поры лишь ведаю блаженства,
Как в монастырь Господь меня привел».
|
|
|
|
Здесь мы видим глубокое философское определение разницы между наслаждением, которое нравственно не ориентировано, обманчиво и скоротечно, и блаженством, связанным с духовной жизнью и исполнением морального долга, постоянным и неизменным. В рассказе Пимена заключается важная для Пушкина тема исхода, отречения от мира — преображения власти в монашеский подвиг.
В рассказе об убийстве царевича содержится значимое сообщение о чуде с телом убитого младенца:
|
«Укрывшихся злодеев захватили
И привели пред теплый труп младенца,
И чудо — вдруг мертвец затрепетал.
“Покайтеся!” — народ им завопил».
|
|
|
|
В «повести об убиении царевича Димитрия» нет упоминания о временном воскрешении царевича: эту деталь вставил Пушкин, вероятно, позаимствовав ее из шекспировской трагедии «Ричард III». Это чудо означает, что царевич Димитрий — святой, и, одновременно, оно является предостерегающим знаком для Отрепьева: решив стать Самозванцем, он становится виновным не только в присвоении чужого права на власть, но и в кощунстве, не говоря уже о попрании монашеских обетов. Однако Отрепьев, понимая, не принимает логику Пимена. Духовному исходу он предпочитает побег из монастыря и авантюру. Вопрос: «Каких был лет царевич убиенный?» носит уже совершенно практический характер: Григорий внутренне снимает с себя монашескую рясу и примеряет на себя ризы Димитрия.
Вроде бы, они оказываются ему впору, и заключительная реплика:
|
«И не уйдешь ты от суда мирского,
Как не уйдешь от Божия суда» —
|
|
|
|
показывает желание Отрепьева стать судьей и палачом Бориса.
Сама реализация этого решения — объявление себя царем, побег, открытие себя в Польше — по большей части находится за кадром. Единственная сцена, связанная с этими событиями — «Корчма на Литовской границе». В этой сцене есть свой символизм, в каком-то смысле она соответствует сцене «Ауэрбаховский погреб в Лейпциге» в первой части трагедии «Фауст».
Герой, продающий свою душу, пускается в демонический мир, и отправной точкой в этом путешествии, пограничьем, служит кабак, корчма, нечистое место с точки зрения церковных канонов. Совпадение Отрепьева с Фаустом состоит еще и в том, что он не участвует в попойке, а лишь наблюдает: для Григория этот разгул слишком мелок по сравнению с грядущим пиром «за царскою трапезой». Разгул монахов, которым «все равно, было бы вино», лишь подчеркивает отступничество Отрепьева, его фактическое расстрижение, при том, что мирянин ведет себя куда более достойно, чем чернецы.
Под пьяную разгульную песню «Как во городе было во Казани» происходит перерождение Григория из монаха в Самозванца: тень Грозного как бы поднимается из гроба, чтобы усыновить отважного бродягу, зачинающего кровавый пир на Руси. В сцене «Корчма» Григорий показывает чудеса выдержки, хитрости, изворотливости и дерзости, из этого можно сделать следующий вывод: такой человек ни перед чем не остановится, и его не сможет сдержать коррумпированная власть, как не смогли задержать взяточники-приставы.
В сцене «Краков. Дом Вишневецкого» Самозванец является во всем блеске своего таланта обольстителя, пытаясь соединить в своем деле несоединимое — русских и поляков, казаков и бояр, при этом он ласкает всех, щедро раздает обещания, не задумываясь о их выполнимости, а следовательно — не заботясь о выполнении. На эту черту следует обратить особое внимание: по церковному учению, антихрист в начале своего правления предстанет добрым и благостным, обещающим всем блага. И, однако, с точки зрения Макиавелли, подобное поведение вполне допустимо для Государя: «Мы знаем по опыту, что в наше время великие дела удавались лишь тем, кто не старался сдержать данное слово и умел, кого нужно, обвести вокруг пальца…. Разумный правитель не может и не должен оставаться верным своему обещанию, если это вредит его интересам и если отпали причины, побудившие его дать обещание…». В каком-то смысле антихрист церковного Предания вписывается в рамки идеального государя Макиавелли: «Пусть тем, кто видит его и слышит, он предстанет как само милосердие, верность, прямодушие, человечность и благочестие… Ибо люди большей частью судят по виду, так как увидеть дано всем, а потрогать — немногим».
То, что Самозванец приобретает некоторые черты антихриста, показывает самое начало сцены — диалог с патером Черниковским. Во-первых, он происходит после тайного перехода Самозванца в католичество и отречения от православной веры. Во-вторых, само это обращение является неискренним и лживым, о чем свидетельствует хотя бы явно не исполнимое обещание за два года привести «всю северную Церковь под власть наместника Петра». Откровенной дезинформацией выглядит утверждение Отрепьева о духе русского народа:
|
«В нем набожность не знает исступленья:
Ему священ пример царя его,
Всегда, к тому ж, терпимость равнодушна…»
|
|
|
|
Стоит сравнить эти слова со сценой «Келья в Чудовом монастыре», чтобы понять их лживость: народ, выдвигающий таких старцев, как Пимен, не может быть религиозно-индифферентным, и, как мы видим из характеристики Пименом Годунова, далеко не всякий пример Царя священен для него. Мы видим феномен двойной лжи. Черниковский дает в руки Самозванцу обоюдоострое оружие оправдания средств целью и благословляет его «притворствовать пред оглашенным светом», не догадываясь, что Лжедимитрий проделывает это с ним самим. Теперь вспомним, что антихрист в церковном предании — лжец и обольститель, пришествие которого будет «со всяким неправедным обольщением погибающих» (2 Фес. 2, 10).
Позднее сам Самозванец признается Марине:
|
«Виновен я. Гордыней обуянный,
Обманывал я Бога и людей».
|
|
|
|
Обращение Самозванца со своими сторонниками вписывается в рамки утилитарного прагматизма, манипулирования и «политической технологии» — игры на всех сторонах человеческой натуры — как на высоких, так и на низких. Характерен его разговор с поляком:
|
«Ты кто таков?»
Поляк:
Собаньский, шляхтич вольный.
Самозванец:
Хвала и честь тебе, свободы чадо!
Вперед ему треть жалованья выдать…
|
|
|
|
Здесь явный комизм ситуации: возвышенное «свободы чадо» преспокойно соседствует с низменной «третью жалованья». Но соположить их может явный циник. Достаточно двусмысленно звучит разговор Самозванца с Хрущовым:
|
Хрущов:
Мы из Москвы, опальные, бежали
К тебе, наш Царь, — и за тебя готовы
Главами лечь. Да будут наши трупы
На царский трон ступенями тебе.
Самозванец:
Мужайтеся, безвинные страдальцы, —
Лишь дайте мне добраться до Москвы,
А там Борис расплатится во всем.
|
|
|
|
В этой сентенции Самозванца присутствует двойной смысл, первый — утешение дворян в страданиях и обещание возместить им все потери, второй — «будьте готовы выполнить ваше обещанье, и дайте мне по вашим костям дойти до Москвы, а там Борис заплатит за вашу смерть». Милость к стихотворцу связана не только с тем, что Самозванец, как поэт в политике, как импровизатор чувствует свое родство с ним, но и потому, что как прагматик отчетливо понимает силу поэтического оружия в психологической войне и манипуляции общественным мнением:
|
«Стократ священ союз меча и лиры…
Нет, не вотще в их пламенной груди
Кипит восторг: благословится подвиг.
Его ж они прославили заране…»
|
|
|
|
Самозванец явно презирает своих соратников и благодетелей, вот что в досаде он говорит Марине:
|
«Явился к вам, Димитрием назвался
И поляков безмозглых обманул».
|
|
|
|
Он убежден в своем избранничестве судьбой и рассматривает людей как орудия судьбы:
|
«Все за меня: и люди и судьба».
|
|
|
|
Но до определенного момента он не замечает, или предпочитает не замечать, что сам становится орудием поддерживающих его сил и судьбы, функцией и знаком, и не самостоятелен. Сила обстоятельств уносит его прочь от возлюбленной, более того, Самозванца торопит сама Марина Мнишек. Но самое страшное, он не принадлежит сам себе и делается заложником своего самозванства.
Любовь к Марине при всей ее кощунственности для бывшего монаха («ты мне была единственной святыней») является моментом истины: Григорий алчет личной, личностной любви к себе как к личности, а не к царевичу и претенденту на московский престол. В нем просыпается живой, искренний, страдающий человек. Но Отрепьеву приходится жестоко обмануться в своем кумире. Он интересует Марину как носитель высокого сана, как социальная функция, не как личность, не сам по себе; под напыщенными словами о высоком святом назначеньи таится желание скорее стать московской царицей, но не связываться с претендентом, когда его дела сомнительны. Самозванец видит это, и в «порыве досады» открывается Марине. Его ревность парадоксальна: он ревнует к самому себе, точнее, к своей личине, к воскрешенному им призраку. С другой стороны, она понятна, Григорий отчаянно пытается освободиться как от панциря лжи, так и от оков иерархизированного, статусного мира, где человека ценят не по его доблестям и достоинствам, а по имени и званию. Ради этого он рискует жизнью и карьерой.
Но он терпит жесточайшее поражение: во-первых, Марине вовсе не нужна его искренность, она предпочла бы притворство и ложь, сохраняющие ее гордость и честь. Во-вторых, он терпит фиаско именно как личность: Марина Мнишек недвусмысленно дает ему понять, что сам он — лишь игрушка удачных обстоятельств, баловень судьбы и недостоин своего успеха:
|
«Уж если ты, бродяга безымянный,
Мог ослепить чудесно два народа,
Так должен уж по крайней мере ты
Достоин быть успеха своего…»
|
|
|
|
И сам Самозванец вынужден признать свою зависимость и ангажированность:
|
«Я им (то есть королю и вельможам) —
предлог раздора и войны,
Им это только нужно….»
|
|
|
|
Ложное положение, в которое изначально поставил себя Самозванец, лишает его право на честь и доверие. Открываясь, он становится лишь беглым монахом, авантюристом, к тому же достаточно ветреным, чтобы озаботиться тайной своего обмана. Его «доблести» получают обратный знак и достойны «позорной петли». Клятва Лжедимитрия в уникальности признания Марине не имеет никакой цены, потому что ему нечем клясться: он не может клясться Богом, ибо он предал свою веру, как расстрига, и не обрел новой, как «набожный приимыш» лицемерных иезуитов, у него нет чести витязя, ибо он лжец и обманщик, и, наконец, его «царское слово» ничего не стоит ни в фактическом, ни в юридическом смысле, ибо он — самозванец. В определенном смысле слова Марины соответствуют диалогу Ричарда III и королевы Елизаветы, когда она требует от Ричарда клятвы и обнаруживается, что ему нечем клясться, Бог, честь, будущее — все оскорблено и искажено. Иными словами, Самозванец сам исключил себя не только из статусного, но из личностного мира, не только из человеческого, но и Божественного миропорядка, из реальности. И тогда он окончательно решает соединить себя с инфернальным, демоническим, виртуальным миром, именно этому посвящен уже рассмотренный нами монолог — «Тень Грозного меня усыновила».
Одно из ключевых слов в нем — «игра»:
|
«Прощай навек. Игра войны кровавой…
Мою тоску, надеюсь, заглушит…»
|
|
|
|
Отныне Самозванец безвозвратно ввергается в призрачный мир «кровавой игры» и абсолютной лжи. Его не просто усыновляет тень Грозного, он сам становится тенью царевича Димитрия, а также — своей собственной, отрекается от своей личности. И, как тень, как призрак, Самозванец оказывается неуязвимым: если Годунов терзается муками совести и испытывает раздвоение, то Лжедимитрий оказывается внутренне целостным и непротиворечивым, его не может мучить внутренняя неправда, ибо он пропитан ею. Он чувствует свою силу в абсолютной лжи и понимает, что она востребована окружающим его обществом, ибо место правды заняла польза:
|
«….. Но знай,
Что ни король, ни папа, ни вельможи
Не думают о правде слов моих.
Димитрий я иль нет — что им за дело
Я им предлог раздора и войны.
Им это только нужно, и тебя,
Мятежница, поверь, молчать заставят».
|
|
|
|
Естественно, подобная решимость и непреклонность злой воли не могут не покорить Марину Мнишек, которая отбрасывает все свои представления о чести, готова покориться Самозванцу в случае успеха.
Единственно, что еще коробит Самозванца в рискованной «игре кровавой» — необходимость лить русскую кровь, отсюда и его печаль в сцене «Граница Литовская»:
|
«Кровь русская, о, Курбский, потечет —
Я ж вас веду на братьев; я Литву
Позвал на Русь, я в красную Москву
Кажу врагам заветную дорогу».
|
|
|
|
В сцене «Равнина близ Новгорода-Северского» в конце битвы Самозванец призывает: «Довольно, щадите русскую кровь». Но уже в сцене «Лес» Лжедимитрий больше жалеет о гибели своего коня (10 стихов), нежели о гибели Курбского (1 стих) и других соратников (1 стих). Это выглядит настолько непристойно, что боярин Пушкин говорит (правда, в сторону):
|
«Ну вот, о чем жалеет?
О лошади, когда все наше войско
Побито в прах!»
|
|
|
|
Эта черта не случайна: тиранам больше свойственно любить животных, нежели людей.
Самозванец исчезает из трагедии за четыре сцены до ее окончания. Многие исследователи уже заметили один важный момент: Отрепьев появляется из сна и уходит из действия во сне. К их наблюдениям относительно нереальности, виртуальности существования Самозванца необходимо добавить, что в православной традиции сон часто символизирует смерть, это — наиболее благоприятное время для деятельности демонских сил. «Просвети очи мои, Христе Боже, да не когда усну в смерть, да не когда речет враг мой: «Укрепихся на него» — говорится в одной из вечерних молитве. Часто суетность мира и жизни в православной гимнографии сравнивается со сном: «Воистину суета всяческая, житие же сень и соние….». Подобное понимание не было чуждо Пушкину: позднее в «Медном всаднике» он поставит вопрос:
|
«…иль вся наша
И жизнь ничто, как сон пустой,
Насмешка неба над землей?».
|
|
|
|
В шестой главе «Евгения Онегина» сон ассоциируется со смертью:
|
«Как в страшном, непонятном сне,
Они друг другу в тишине
Готовят гибель хладнокровно…»
|
|
|
|
Еще ярче эта ассоциация видна в стихотворении «Наполеон»:
|
«Европа гибла; cон могильный
Носился над ее главой»
|
|
|
|
Итак, сон Самозванца и в начале, и в конце трагедии может быть связан со смертью, суетой, тщетностью. Однако он имеет еще одно значение: Лжедимитрия можно ассоциировать с Наполеоном — «исчезнувшим, как тень зари» ночным гостем стихотворения «Недвижный страж дремал на царственном пороге»:
|
«То был сей чудный муж, посланник Провиденья,
Свершитель роковой безвестного веленья,
Сей всадник, перед кем склонилися цари,
Мятежной вольности наследник и убийца,
Сей хладный кровопийца,
Сей царь, исчезнувший, как сон, как тень зари»
|
|
|
|
Отметим, что Самозванца также называют «чудным». «Опасен он, сей чудный Самозванец», — говорит Борис Годунов
По ходу трагедии он воспринимается как «посланник Провиденья»:
|
«Хранит его, конечно, Провиденье».
|
|
|
|
Наконец, не случаен образ Самозванца как всадника, на который указывают сцены «Граница Литовская» (Курбский и Самозванец едут верхом) и «Лес» (павший конь).
То, что образ Наполеона незримо присутствует в трагедии, показывает одна значимая деталь — обещание Басманова Годунову:
|
«И замолчит и слух о Самозванце;
Его в Москву мы привезем, как зверя
Заморского, в железной клетке….»
|
|
|
|
Исторический Басманов не давал подобного обещания, оно прозвучало из уст маршала Нея во время Ста Дней, когда король Людовик XVIII поручил ему остановить Наполеона. Между Ста днями и вторжением Лжедимитрия Пушкин прводит несомненную параллель:
|
«Димитрия ты помнишь торжество
И мирные его завоеванья,
Когда везде без выстрела ему,
Послушные сдавались города,
А воевод упрямых чернь вязала».
|
|
|
|
Эта картина не вполне верна относительно похода Самозванца: ему оказал ожесточенное сопротивление Новгород-Северский, где воеводой был Басманов, но зато она полностью соответствует Ста дням Наполеона, когда действительно без единого выстрела ему сдались Гренобль, Лион и, наконец, Париж...
Есть еще один «наполеоновский след» в трагедии — слова капитана Маржерета: «Puisque le vin est tire, il faut le boire». — «Когда вино откупорено, его надо выпить», это — любимая поговорка Наполеона, легко узнаваемая современниками Пушкина.
Итак, образ Наполеона незримо присутствует в трагедии и наполеоновская тема многое объясняет в ней, прежде всего — психологию толпы, психологию народа:
|
«…………. безсмысленная чернь
Изменчива, мятежна, суеверна,
Легко пустой надежде предана,
Мгновенному внушению послушна,
Для истины глуха и равнодушна,
А баснями питается она.
Ей нравится безстыдная отвага…»
|
|
|
|
На феномене постоянной удачи, «безстыдной отваги». постоянной авантюры и держался Наполеон; как только удача отвернулась от него, рухнул его режим. Портрет «изменчивой, мятежной черни, преданной пустой надежде», точно соответствует состоянию французского общества времен революции и наполеоновских войн, позднее Лермонтов кинет французам горький, но справедливый упрек:
|
«Как женщина, ему вы изменили,
И, как рабы, вы предали его».
|
|
|
|
Однако в трагедии есть еще одна тема, связывающая ее с революционным и наполеоновским временем, это — ниспровержение легитимизма и утверждение «популистского», демократического принципа. Характерен диалог Гаврилы Пушкина и Басманова. Жалкая попытка Пушкина легитимизировать Самозванца проваливается, и тогда он выдвигает совершенно иную аргументацию:
|
«Россия и Литва
Димитрием давно его признали,
Но, впрочем, я за это не стою.
Быть может, он Димитрий настоящий,
Быть может, он и Самозванец. Только
Я ведаю, что рано или поздно
Ему Москву уступит сын Борисов».
|
|
|
|
Боярин Пушкин откровенно объясняет источник силы Самозванца:
|
«Но знаешь ли чем сильны мы, Басманов?
Не войском, нет, не польскою подмогой,
А мнением, да! мнением народным!»
|
|
|
|
Тема «мнения», как мнимости, призрачности, самообмана достаточно освещена исследователями. Для нас важно то, что на место легитимизма выдвигается принцип признания; законность, исходящая сверху, подменяется «мнением снизу». Пушкин чутко уловил сдвиги, происшедшие в русском политическом сознании в начале XVII века. Позднее Ключевский напишет: «В обществе стала пробиваться даже мысль, что всенародное земское собрание, правильно составленное, вправе не только избирать царя, но при случае и судить его. Такая мысль официально была высказана именем правительства Василия Шуйского. В самом начале его правления был послан в Польшу кн. Григорий Волконский… По официальному наказу, какой был дан послу, он говорил королю и панам, что люди Московского государства, осудя истинным судом, вправе были наказать за злые и богомерзкие дела такого царя, как Лжедимитрий. Князь Григорий сделал еще более смелый шаг, он прибавил, что хотя бы теперь явился и прямой, прирожденный государь царевич Димитрий, но если его на государство не похотят, то ему силой на государстве быть не можно. У самого князя Курбского, политического либерала XVI века дыбом встали бы волосы, если бы он услышал такую политическую ересь». Пушкин не владел подобным материалом: у Карамзина, как и у Голикова тема наказа Шуйского по понятным причинам обойдена, тем не менее, благодаря своей удивительной интуиции, поэт почувствовал эту историческую тенденцию, тем более, что она была злободневна для его времени.
Пушкин понял, что «мнение народное» «для истины глухо и равнодушно, оно не особо интересуется истиной, для него важна польза и выгода. Характерен монолог Гаврилы Пушкина на Лобном месте:
|
«Московские граждане!
Мир ведает, сколь много вы терпели
Под властию жестокого пришельца:
Опалу, казнь, безчестие, налоги
И труд, и глад — все испытали вы.
Димитрий же вас жаловать намерен,
Бояр, дворян, людей приказных, ратных,
Купцов, гостей и весь честной народ.
Вы ль станете упрямиться безумно
И милостей кичливо убегать?»
|
|
|
|
Безсовестность подобной агитации очевидна: жаловать одно сословие можно только за счет другого, все слои общества одновременно награждать невозможно, как нельзя представить себе государство без трудов и налогов. Однако народ поддается на нее, поскольку исполняется его давнишняя мечта — свобода и добрый царь-отец, но без государства, без поборов, без казней и опал.
В сущности это — революционная утопия, которую довольно точно определил Максимилиан Волошин:
|
«Распродали на улицах. Не надо ль
Кому республик, денег иль свобод?
Гражданских прав? И Родину народ
Сам выволок на гноища, как падаль».
|
|
|
|
Обещая царские милости, «любовь и мир» и одновременно устрашая «сопровожденьем грозным», Гаврила Пушкин действует в рамках политической технологии, сходной с той, что употреблял Годунов: «А он умел и страхом, и любовью, и славою народ очаровать». Но если царь Борис пользуется ей для укрепления русского государства, то Самозванец и его клевреты — для его развала, ибо «кажут врагу заветную дорогу в красную Москву». И тем не менее иллюзия «природного», чудесно спасшегося царевича оказывается слишком могущественной, в том числе и потому, что народ чувствует себя хозяином положения, властителем (пусть временным) Руси. Кульминацией сцены «Лобное место» становится появление мужика на амвоне. Он служит символом крестьянского бунта — разинского, или пугачевского. Клич «В Кремль, в царские палаты ступай вязать Борисова щенка», с одной стороны, является полным ниспровержением всей государственной парадигмы, традиционного уважения к царскому сану, своего рода попранием прежних святынь, поруганием прежде священного царского имени, а затем — призывом к народной, мужичьей власти.
Однако Пушкин показывает, что простой народ органично неспособен к самостоятельному правлению. Как только цель достигнута — Годуновы свергнуты — народ становится прежней инертной массой, послушной начальству — «расступитесь, бояре идут». В народной толпе «у каждого свой ум и толк» — одни жалеют сверженных Годуновых, другие злорадствуют. В результате народ оказывается неспособен к энергичному действию, даже когда на его глазах совершается явное преступление. Этот паралич «народного мнения» выражается в заключительных ремарках «народ в ужасе молчит», «народ безмолвствует».
Конечная фраза трагедии «Народ безмолвствует» неоднократно анализировалась в научной литературе. Пушкин, вероятно, знал слова Авраамия Палицына о наказании Руси «за безумное молчание всея земли» перед Годуновым и, возможно, использовал их в ином контексте. Однако у этой ремарки есть иной смысл: ответом на призыв кричать «Да здравствует царь Димитрий Иванович» служит молчание, следовательно, народ пусть пассивно, но отказывает в признании тому самому царевичу, за которого раньше был готов «главами лечь», как раньше он отвернулся от убийцы-Бориса.
В сцене «Дом Борисов» есть важная деталь: под стражу были брошены Мария Годунова, жена Бориса, и его дети — Феодор и Ксения, но в конечной сцене показаны только они и к ним обращена жалость части народа — «малые пташки в клетке», они перестают быть частью ненавистного рода и становятся только обиженными сиротами. Таким образом, Самозванец, приказавший умертвить Феодора, сам становится детоубийцей и цареубийцей. На глазах у потрясенного народа рушится красивый миф о добром, благостном «царевиче», чудесно спасенном от гибели, идущем с «любовью, миром». «Московские граждане» увидели в нем те же черты, что и в Годунове — жестокость, прагматизм, а главное — ложь, и поняли, что они стали жертвой грандиозного обмана и заложниками безблагодатной власти, куда более циничной, неправедной и безбожной, чем прежняя. Пока народ безсилен что-либо изменить, но это «безмолвие» является грозным предупреждением Самозванцу и предвестием его скорого падения, а также — новых потрясений для России.
|