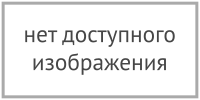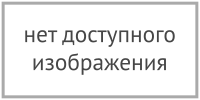Русская Голгофа
Инокиня Анна (Иговская)
Воспоминания
Земля Сибирская
«На первых порах мне было очень трудно жить одной среди людей совсем другого склада, чем мое общество на родине, — вспоминает Анна Сергеевна. — Господь, видя мое безропотное страдание, послал мне утешительный сон. Вижу, будто у дороги, где я иду, сидит старец, на вид нищий. Я во сне почему-то считаю его Сергием: не то угодником Божиим, не то своим покойным отцом Сергеем Петровичем. Старичок предлагает мне купить носки, такие славные, белые, шерстяные, и отдает их всего за 20 копеек. Я во сне взяла эти носки и проснулась утешенная. С тех пор я стала веселее и смелее ходить среди деревенских людей и обращаться с ними.
Стала посещать и дальние деревни. Меня везде принимали как слугу Господню, ведь я не только рисовала по избам, но читала Псалтирь, акафисты и рассказывала крестьянам понятное для них из моего умственного и духовного багажа…
Однажды вечерело. Взглянув в окно избы Феодоры, я увидела на западе, над лесом, алую, как бы из свежей крови звезду; она, на глазах поднимаясь над лесным массивом, тут же стала спускаться и скрылась. И вдруг я поняла, что это — знамение, это муки и кровь, проливаемая за Уралом, и с той минуты не забывала о войне. Между прочим, о злодеяниях фашистов и о «лагерях смерти» я узнала только впоследствии, уже сама будучи в лагерях.
Настроение у меня было до высшей степени тяжелое — в Ленинграде такого и тени не было. Голод, вши, безпросветная внутренняя тоска. Чувства мои ко Господу совсем остыли. Я катилась вниз. Помню, ночевала в Усть-Оше на печке, не зная, куда податься; везде голод, голод, голод. И тоска без Церкви. Из Усть-Оши я пошла в Кондрашино, в надежде, что эвакуированные, живущие там две семьи, может быть, меня накормят. Это были две женщины, не из интеллигенции, но развитые и имеющие много вещей. У обеих были дети: у одной два мальчика, у другой — две девочки. Меня действительно покормили, уже не помню чем, и я была оставлена ночевать. Одна из женщин, помоложе, лежала в горнице больная, у нее был тиф-сыпняк, болезнь войны и голода. Она уже как будто поправлялась и я не побоялась лечь рядом с ней, тем более в «избе» (кухне) было тесно: и хозяйка, и эвакуированная с дочками. У меня были вши. Очевидно, ночью они побывали на больной и, вернувшись опять ко мне, принесли с собой бациллу сыпного тифа… Стояла морозная ночь. Утром я проснулась вся окоченевшая. Бацилла тифа взяла меня в страшный плен. Долго перебивалась я на ногах, дней десять, хотя, чувствовала себя как в тумане, как будто кто-то во мне поселился, и этот туман давит на голову. В Великую Среду меня пригласили на Страстные дни и Пасху в соседское село.
Стояла весна. Пасха в 1943 году была, насколько я помню, 21 апреля. Я шла, как в чаду. У меня был термометр, но я ни разу за эти дни не померила температуру. У хозяйки Паны я сразу легла и ничего не могла есть, хотя она, ожидая меня, наготовила всего постного. Так, в полузабытьи, я провела на постели Среду. В Великий Четверг утром я, употребляя сверхвозможные усилия, поднялась, раскрыла Новый Завет и хотела читать 12 Евангелий, чего, собственно говоря, и ждала от меня Пана, прочла полстраницы и более не смогла. «Мне плохо, Пана, — сказала я, — у меня, вероятно, сильный жар». Пана помогла мне надеть пальто, боты и шапку и вывела на улицу, желая проводить меня к Феодоре. У Паны был сынок лет пяти, оставить меня у себя она не могла. Но и идти я не смогла. Тогда Пана, молодая сильная женщина, взяла меня на руки и на руках перенесла меня через лед реки Айова на наш берег. Каково было Феодоре увидеть свою квартирантку в таком виде! Когда я села, вернее, была посажена, и сняла боты (чулки спустились), то увидела у себя на ногах пятна тифозной сыпи, которую когда-то видела на больных. Вскоре я потеряла сознание. Лежала в «избе» — по нашему понятию, на кухне. Очнулась я в первый день Пасхи. Никаких сил не было не только встать, но и приподняться.
Так 21 день и пролежала без матраца, на каких-то тряпках, без всякой врачебной помощи и пищи. Голод кругом был ужасный. Спасала меня одна Феодора, которая дважды в день давала мне по полкружечки супа из крапивы, чуть забеленного молоком (у нее была корова). Ничего хлебного или густого я эти три недели в рот не брала — его не было. Голод терзал меня. Днем температура уменьшалась, но у меня не было сил ее мерить. Жар очень мучил меня ночами, но Ангел-Хранитель облегчал мое страдание, влагая мне мысль рассказывать себе самой о первых христианах в последние дни Помпеи. Так в полузабытьи, полуфантазии, представляя себе текущие потоки лавы и пение христиан, заранее оставивших город и спасавшихся на холме поблизости, я проводила каждую ночь. Двадцать одну ночь! А днем лежала, не имея сил даже поднять голову. Иногда были дни полегче, яснее, иногда я мало сознавала время, лишь ощущала нестерпимый голод. Я готова была сцарапывать со стены известку и есть — такого в городе святого Петра я не знала.
Вот тогда я и начала просить милостыню под окнами. Приподнимусь на одной руке, а другой постучу в стекло окошка. Почти ни у кого ничего не было, но мой отчаянный вид вызывал такое чувство, что кто-то дал мне лепешку, кто-то горсть каких-то зерен, которые, я сварила, доползя, уже совершенно изнемогшая, до хаты Феодоры. Несколько дней таким образом ползая по улице под окнами, я что-то добывала, а потом Господь вернул мне возможность вставать на ноги, и передвигаться стало полегче.
Варили из крапивы суп. Но крапивные супы вызывали во мне, с детства страдавшей крапивницей, эту болезнь, и я вся покрылась сыпью. Зуд был неимоверный. Разумеется, продолжали грызть и вши — их стало очень много. Они вновь поселились в порах кожи, как весной в блокаду. Есть было нечего, но крапивные супы волей-неволей пришлось оставить. Помню, однажды ночью под праздник апостола Иоанна Богослова я от неимоверного зуда, вся в лепешках крапивной сыпи, всю ночь металась по двору, выбегала на улицу. Ночь была светлая, как белая ночь в Питере. Гонимая зудом, я добежала до часовни Святителя Николая и, рыдая в голос, молила его о помощи. К этой часовне меня вообще всегда тянуло, и до тифа я частенько подходила сюда помолиться. До войны в часовне устроили зернохранилище, а теперь в ней ничего не было. Я, подходя, просила моего великого покровителя не оставить меня в стране чужой. От слабости зрения после тифа и трехнедельной голодовки рисовать я не могла, мелкого совсем не видела, читать тоже была не в силах, все сливалось в глазах. Не могла, потому и заработать было нечего. Плохи были мои дела!
Однажды я сидела у часовни и просила Николая Угодника, чтобы он спас меня от гибели. В этот момент мимо часовни проезжал военный в форме МВД. Он спросил меня, кто я такая, почему плачу? Я объяснила, что эвакуированная, родители и брат умерли, одна-одинешенька на свете, сижу от слабости после тифа и прошу угодника Божия о помощи, больше мне просить некого. Товарищ Садовский, такая была его фамилия, попросил меня постараться дойти до Знаменки: «Там я все устрою, Вы получите помощь». С горем пополам добралась я до указанного села, где получила три килограмма муки и 250 грамм сливочного масла. Масло меня и спасло: ко мне вернулась возможность рисовать. Через 3–4 дня я опять пошла с кисточкой и красками, с Новым Заветом и маленькой Псалтирью в заплечном мешке по деревням и селам Знаменского района…
В Пушкареве зашла к Феодоре и с ужасом увидела всю ее семью — шесть человек детей — лежащими на полу, в сыпняке. Мои вши перешли на них и заразили тифом. Феодора, не без гнева, все это мне высказала: «Вот одна я на ногах, все лежат. Больше ко мне не приходи жить: Поля и Таля (старшие дочери из шести детей) велели тебя проводить». Изгнанная Феодорой я, вся в слезах, пошла на Знаменку, часто останавливаясь по дороге и страдая от голода…»
Скитаясь по селам Омской области, Анна узнала, что недалеко, в Казахстане, томится в ссылке старшая сестра ее мамы Елизавета Ивановна, когда-то блистательная светская дама Санкт-Петербурга, которой в годы революции удалось выехать за границу, в Пинск. В 1939 году часть Польши, где располагался Пинск, перешла к Советской власти. Ее муж, Иван Иванович Найденов, попал в тюрьму, а Елизавету Ивановну отправили в ссылку в Казахстан. Так она очутилась в селе Вишневка в Акмолинской области. Когда Анна узнала, что ее тетя рядом, стала собираться ехать к ней, но ее арестовали.
После войны правительство Польской Народной Республики получило право вернуть в ПНР всех высланных поляков. Многие в те годы вернулись в Польшу. Предлагали вернуться и Елизавете Ивановне. Муж ее, этапированный в Долинский концлагерь близ Караганды, умер там в 1941 году. Елизавета Ивановна осталась в России ждать из заключения племянницу и ждала ее целых восемь лет. Может быть, потому Анна и выжила в страшные годы заключения, что знала, что кому-то на свете она еще нужна.
Во узах
Под стражу ее взяли по навету за какое-то слишком смелое, неосторожное высказывание и вменили ей «политическую» статью 58–10. Следующие записи — из «тюремных» страниц исповеди А. С. Иговской.
«В день Казанской иконы Божией Матери нас этапировали в ближайший лагерь — Атаку, километров 15–18 от Тары, вверх по Иртышу, на другом берегу его. Ослабленная до крайности тюремным заключением, я с трудом могла идти. Подушку мою и одеяло несли двое из идущих с нами девчат; не знаю уж, за что их посадили, хорошие лица у них, да и у многих, были… День был очень холодный. Я была в рваных валенках. Я ступала ногами, попадая дырами подошв прямо по застывшей ледяной земле. Под конец пути подошвы совсем отлетели. Последние 3-4 км девчонки вели меня под руки. Я уже не могла двигать ногами, сердце останавливалось. Стиснув зубы, я висела на руках тащивших меня девчат. Нос у меня скоро потерял чувствительность. Чулок с левой ноги спустился, ветер леденил колено. Но руки уже так застыли, что я не могла поднять и подтянуть чулок. Почти в безсознательном состоянии дошла я до деревни. Когда мы на ночлег вошли в избу… Нет слов, все ужаснулись! Нос мой представлял из себя красный колпак, а колено, огромное, багровое, раздувшееся, попав в тепло, сразу лопнуло и из него потекла жидкость. Сделались три раны — посредине колена и две по бокам. Всю ночь я не спала от страшной боли, но не стонала. И злобы на моих мучителей у меня не было, я им прощала все. Ведь они творили в неведении, искренно считая меня… врагом народа! Вскоре нос мой почернел и долго-долго этот черный колпачок сидел на нем. Потом, месяца через два, отвалился, и нос мой стал с тех пор гораздо тоньше… Меня и Ольгу судила выездная сессия областного суда как опасных преступников, и прокурор, молодая женщина, у которой летом я рисовала портрет с ее дочери, девчурки лет трех, требовала расстрела…
Дорога в безвестный край, в теплушках была бы не так тяжела (в них были печки), если бы нас чаще кормили. Еду давали один раз в сутки. Я изнемогла. К концу пути у меня снова открылась ленинградская цинга. После Новосибирска мы узнали, что нас везут на ст. Большой Невер, за Читу, а далее, через Саянский хребет, в глубь Якутии мы уже поедем на автомашинах. Около ст. Иркутск наш состав очень долго стоял на путях, ночью. И вот под утро, во сне, голубокое озеро, очень большое (это я, очевидно, видела озеро Байкал), а по нему плывет плот с парусом. Правит плотом, стоя впереди, в облачении, наш Ладожский епископ, Владыка Иннокентий (Тихонов), в то время, как я узнала впоследствии, уже умерший в лагерях. На плоту много его духовных детей и вообще верующего народа. В бодрственном состоянии я неясно представляла себе внешность Владыки, а тут, во сне, он предстал, как живой, со своим бездонными, как Байкал, голубыми очами. (Видели мы в щели теплушки и реку Ангару — не замерзающую зимой, от нее валил пар, а вода казалась черной…)
Неумолимое отношение ко мне начальника, полная невозможность даже на подсобной работе выполнять хотя бы половину требуемого от меня! На меня легла тяжесть, еще не бывалая в жизни. Ходьба с бригадой, вставанье в 4 часа утра. Есть так рано, замирая от желания спать, я не могла и шла на разрез натощак. В полдень туда привозили суп и кашу. Работали 10 часов. «Звон поверок и шум лагерей не забыть нам, наверно, вовеки…» Невозможность выполнять норму грозила тем, что я попаду в карцер, где не топили. Какое изнеможение, какие мученья голода, когда кусок хлеба, который я получала, был ничем при такой трате сил и почти постоянном лишении сна, так как две смены, жившие в одном бараке, не давали спать одна другой. Меня выгнали на разрез в самые лютые, февральские морозы, температура падала до 65-66 градусов ниже нуля…
Ночная смена. Как были страшны эти длинные, казавшиеся безконечными якутские ночи, когда камни в горах трескаются от мороза! Обогреваться в домик-сарай, где топилась железная печка, кроме обеда пускают один раз в смену за десять часов! А держать, хотя бы для виду (ударять ею я не могла, так как тяжела) кирку в руках уже нет сил! Бросаешь ее, огромную «кайлу» и только ходишь-ходишь по трапам (деревянным настилам) безостановочно, чтоб не замерзнуть насмерть, да смотришь туда, в черное, как смола, небо, где звезды, кажется, висят над нами совсем близко — огромные и безжалостные. Но я не роптала, а только два раза за этот страшный февраль попросила смиренно смерти-избавительницы!..
Несколько раз меня посылали в лес на работу. Хочется хотя бы немного описать девственную тайгу в алданских пределах, куда нас гоняли на лесоповал. Однажды нас привели неширокой, прорубленной в чаще дорогой в такое место, что из-за сплошной стены кустарников и мелкого ельника нельзя было сделать без топора ни шагу. Я, конечно, просто стояла, дивясь на эту таежную глушь, где от создания мира не ступала нога человека. Девчата взялись за топоры и принялись прорубать дорожку к высоким соснам, которые надлежало «валить»… Господи! Какая тишина и чистота! Грех Адамов еще не коснулся этого могучего нетронутого леса! А воздух! Запах хвои, смолы и лесных трав… Но уже раздался девичий смех — громкий, не берегущий тишины говор наших бедных «преступниц», и священная тишина тайги нарушилась нескромностью человеческой. А кругом нас стоял вооруженный конвой…
Было часов десять утра, когда меня разбудил вызов по фамилии. Разбужена я была в удивительном сне: я видела служение Патриарха в московском Богоявленском соборе. Он молился за Россию. Это был день Казанской иконы Божией Матери, чудотворный образ Которой находился в соборе. И молитва его во сне представлялась мне в виде растекающейся во все концы Земли Русской густой жидкости — варенья, достигавшего своими потоками каждого, кто мог принять. И я, грешная, в маленькую белую фарфоровую чашечку набрала этого благодатного, чудного варенья…
В ОЛП-1 была необыкновенная встреча Пасхи Христовой, в тот год совпавшей с 1 мая. В субботу мы еще ходили работать, а ночью… О, страшная ночь — в наш женский барак с 11 часов вечера забрались «урки» из мужского барака и насиловали женщин, по своему выбору, кого они хотели. Господи, какой это был ужас. Пикнуть никто не смел, у преступников были ножи, они предупредили: кто зашумит, пощады не будет. Я, конечно, была не из выбранных и, содрогаясь от жалости к насилуемым — они тоже молчали, видя перед собой нож, пела в уме Великую пасхальную утреню и чувствовала Пасху не менее сильно, чем некогда в переполненных храмах Петрова града. Утолив похоть, урки ушли, а я уснула, как дитя, сон у меня в то время был крепкий и сладкий. Начальство встречало 1 мая, и в бараки надзиратели не зашли ни разу…
Раб Божий Михаил
В концлагере Анну Сергеевну постигло большое искушение. Страницы «Исповеди», где повествуется об этом, в буквальном смысле слова исходят кровью. Было бы слишком жестоко и неделикатно оставить читателя наедине с этими мучительными страницами, где Анна Сергеевна безжалостна к себе почти до мазохизма. Пусть тот, кто никогда не падал в жизни сей, лукавой и грешной, бросит в нее камень! Однако рассказа этого избежать нельзя. Она сама никогда не отрекалась от «мирского» периода своей жизни, не хотела его замалчивать, потому что иначе ее «Исповедь» будет неполна, недостоверна, в конце концов, просто нечестна. Но пусть она прозвучит не из ее собственных уст, а будет исходить от другого человека, понимающего ее и сочувствующего ей.
Работая художницей в Омском лагере, Анна Сергеевна познакомилась с художником Михаилом Петровым, тоже «политическим». В этом гибельном месте, где мужчины и женщины содержались в относительной близости, как видно из вышеприведенных строк, было очень трудно блюсти свою чистоту. Вот что пишет о подобной ситуации Дивеевская исповедница инокиня Серафима (Булгакова): «Вдобавок ко всему я попала в мужской лагерь. В скорбях написала матушке письмо, всего две строчки: «Матушка, помолитесь, я попала в мужской лагерь». Не знаю, дошло письмо или нет, но Господь меня подкрепил — пропало всякое чувство, хотя мне было всего 25 лет. Когда приставали мужчины, я совершенно не понимала, чего они от меня хотят…
Потом шла в барак. Там ютилось 30 женщин, а кругом в таких же бараках тысячи мужчин. Мужскую и женскую половины тюрьмы отделяла легкая стенка. В ней была проделана дырка, которую на день закрывали. Ночью на женскую половину приходили «женихи» с огромными ножами.
Я всегда старалась сохранить чистоту души, а пришлось познать всю глубину человеческого падения. Там ведь были такие бандиты… Соседка по нарам рассказывала, правда, не без содрогания, как она участвовала в «мокром деле»: бандит зарезал ребенка в люльке и с наслаждением облизывал кровь с ножа. Такие там были люди. Бывало, проснешься от криков — бьют кого-нибудь, или грабят, или режут, повернешься на другой бок, уши заткнешь и снова спишь. Как только выдержала, не знаю. Какие уж после этого могут быть нервы?
Мужчины не давали «свободным» женщинам прохода, и если сойтись с кем-нибудь одним, можно было значительно облегчить себе жизнь. Этого испытания раба Божия Анна не выдержала. Ей было почти сорок лет. Впервые в жизни познала она плотскую страсть, которая перешла в пылкую влюбленность.
В те дни ей приснился сон, будто она идет по улице — дует сильный ветер, взметая грязь и пыль. Сор облаком кружится над землей, вихрь рвет ее волосы, юбка взлетает, она с трудом удерживает ее у колен. Ураган буквально сбивает женщину с ног. А в стороне стоит ее покойный отец и с большим неодобрением на все это смотрит. «Не сомневаюсь, что так оно и было, папочке было больно видеть меня такой из Царства Небесного», — признается Анна Сергеевна.
Потом ее перевели в другой лагерь, в Якутию. Она строчила Михаилу письмо за письмом, но он не отвечал. Она не сдавалась, писала о своих чувствах, умоляла откликнуться — в ответ тишина. Так прошло около года. Наконец, пришел благосклонный ответ. Она ликовала. Некоторое время они переписывались, потом Михаил опять пропал. На сей раз пришло письмо от его друга: Михаила Петровича поместили в тюремную психбольницу, он сошел с ума.
Подошел срок освобождения. В эти же дни освобождался и Михаил.
Когда она добралась до тюремной «психушки» и сказала, что хочет забрать больного Петрова, им предоставили свидание. В первый миг она не узнала Михаила: это был наголо обритый, непривычно кряжистый, какой-то опухший, отяжелевший человек с толстыми губами и грубыми чертами лица. Где прежняя тонкость профиля, вдохновение, юмор, шарм, что так ей в нем нравились? Он обрадовался, расплылся в улыбке, которая показалась ей глупой. Анна Сергеевна поняла, что Михаил действительно тяжело болен и надежды на выздоровление мало. Тем сильнее было ее чувство ответственности: ведь кроме нее, у него никого на свете не было.
Она забрала его, и они поселились в сибирской деревеньке. Анна Сергеевна по-прежнему рисовала иконы, читала по домам Псалтирь, люди ей немного платили, и она содержала себя и Михаила. Его характер изменился к худшему, жить с ним оказалось очень трудно, почти невозможно. Он безумно ревновал Анну — то к соседу, то к клиенту, чей портрет она рисовала, то к диакону, у которого брала духовные книги. Он подозревал ее в самых нечистых помышлениях, в самых чудовищных поступках. После этого следовали сцены с оскорблениями Анны Сергеевны, нецензурными выражениями в ее адрес. Он стал поднимать на нее руку, хвататься за нож. Быть рядом с ним становилось все страшнее.
Анна Сергеевна вспоминает, что подобные обострения у Михаила случались в дни «красных дней календаря» — советских праздников, а также в дни выборов, когда на улицах развевались красные флаги и по радио звучали бравурные гимны. Миша скрежетал зубами и глухо бормотал: «Кровь, кровь…». В такие минуты она старалась не оставаться с ним наедине.
Прошло полтора года, начался Великий пост 1953 года. Благочестиво проводить его было невозможно: Михаил скандалил, требовал физической близости, матерился, рукоприкладствовал. Анна Сергеевна была совершенно измучена. Как утраченный Эдем, вспоминала она свою прежнюю одинокую жизнь, которая иногда казалась скучной и пресной, но которая, оказывается, была такой счастливой, глубокой, наполненной. Однажды она взмолилась: «Господи, прости меня. Возьми это у меня, Господи, и верни мне мою “Триодь постную”!»
Через несколько дней она проснулась ночью от ощущения чего-то теплого, липкого. Взглянув на Михаила, увидела, что из его шеи упругими толчками бьет кровь: он порезал себе бритвой шею. Спасти его не удалось.
Анна Сергеевна похоронила гражданского мужа по христианскому обряду, как душевнобольного, совершившего самоубийство в безумии. Деревенские женщины по-бабьи жалели ее, старались не оставлять в одиночестве. Однажды после похорон они пришли к ней читать Псалтирь. Анна Сергеевна в полудреме лежала на кровати, она была не в силах молиться. Тлела коптилка, мерно звучали слова Давидовы: «Блаженни непорочнии в путь, ходящии в законе Господни. Блажени испытающии свидения Его, всем сердцем взыщут Его» (Пс. 118, 1–2).
 Вдруг она различила в полутьме за печкой какую-то недоразвитую съежившуюся фигуру, словно кто-то, то ли горбун, то ли карлик сидит на корточках, обхватив колени, и раскачивается из стороны в сторону, как от нестерпимой зубной боли. Эта потусторонняя фигура внушала к себе не страх, а жгучую жалость, горячую скорбь. Анна Сергеевна поняла, что это бедная душа ее друга, которая так и не смогла развиться на земле в сильную, полноценную, не вошла в заповеданную Господом меру, не достигла раскрытия всех своих способностей, пришла к ней, благодаря за последнюю милость — молитву и прося во веки веков не лишать ее этой драгоценной малости…
Вдруг она различила в полутьме за печкой какую-то недоразвитую съежившуюся фигуру, словно кто-то, то ли горбун, то ли карлик сидит на корточках, обхватив колени, и раскачивается из стороны в сторону, как от нестерпимой зубной боли. Эта потусторонняя фигура внушала к себе не страх, а жгучую жалость, горячую скорбь. Анна Сергеевна поняла, что это бедная душа ее друга, которая так и не смогла развиться на земле в сильную, полноценную, не вошла в заповеданную Господом меру, не достигла раскрытия всех своих способностей, пришла к ней, благодаря за последнюю милость — молитву и прося во веки веков не лишать ее этой драгоценной малости…
Так Господь освободил рабу Божию Анну от не по силам взятого креста, и она опять стала Его невестой, как ее видела благочестивая родительница Александра Ивановна, тридцать с лишним лет назад сказавшая: «Я сегодня очень молилась за тебя Распятому Христу и отдала Ему тебя. Я просила Его, чтобы ты не выходила замуж и осталась только Его».
Со временем все плохое забылось, осталась светлая память о товарище печальных дней, бережное отношение к его картинам…
|